Синдром отмены и маниакальные защитные механизмы
Защитные механизмы маниакального типа охватывают весь спектр психологических защит — от примитивных до зрелых. Определяющим фактором маниакальности является не механизм защиты, а её цель и объект. Примитивные защиты искажают восприятие реальности, оберегая психику от травмирующих элементов внешнего мира. Зрелые защиты направлены на блокирование определённых мыслительных процессов и эмоциональных состояний.
Главная функция таких защит — сохранение грандиозных аспектов личности и чувства всемогущества от разрушительного воздействия фрустрации и ситуаций, умаляющих значимость Эго. Таким образом, маниакальность определяется через защищаемое содержание и источники угрозы, а не через конкретные защитные механизмы.
Когда психика не располагает достаточными энергетическими или ментальными ресурсами для противостояния отрицательным воздействиям, включаются примитивные защитные механизмы.
Когда психика не располагает достаточными энергетическими или ментальными ресурсами для противостояния отрицательным воздействиям, включаются примитивные защитные механизмы.
Они проявляются в форме избегания, отрицания или существенного искажения неприятной информации. Такие защитные реакции типичны для трех категорий: несовершеннолетних с еще формирующейся психикой; взрослых, страдающих психическими нарушениями; и людей, переживающих острый кризис после сильных жизненных потрясений. В этих случаях человек не способен адекватно обрабатывать негативный опыт и вынужден прибегать к примитивным стратегиям психологической защиты, игнорируя сигналы опасности: от отрицания к неожиданным последствиям.
Когда жизнь рушится внезапно, люди часто восклицают: «Как это могло произойти? Не было никаких предпосылок!» Но правда в том, что предпосылки обычно существуют, просто их сознательно не замечают.
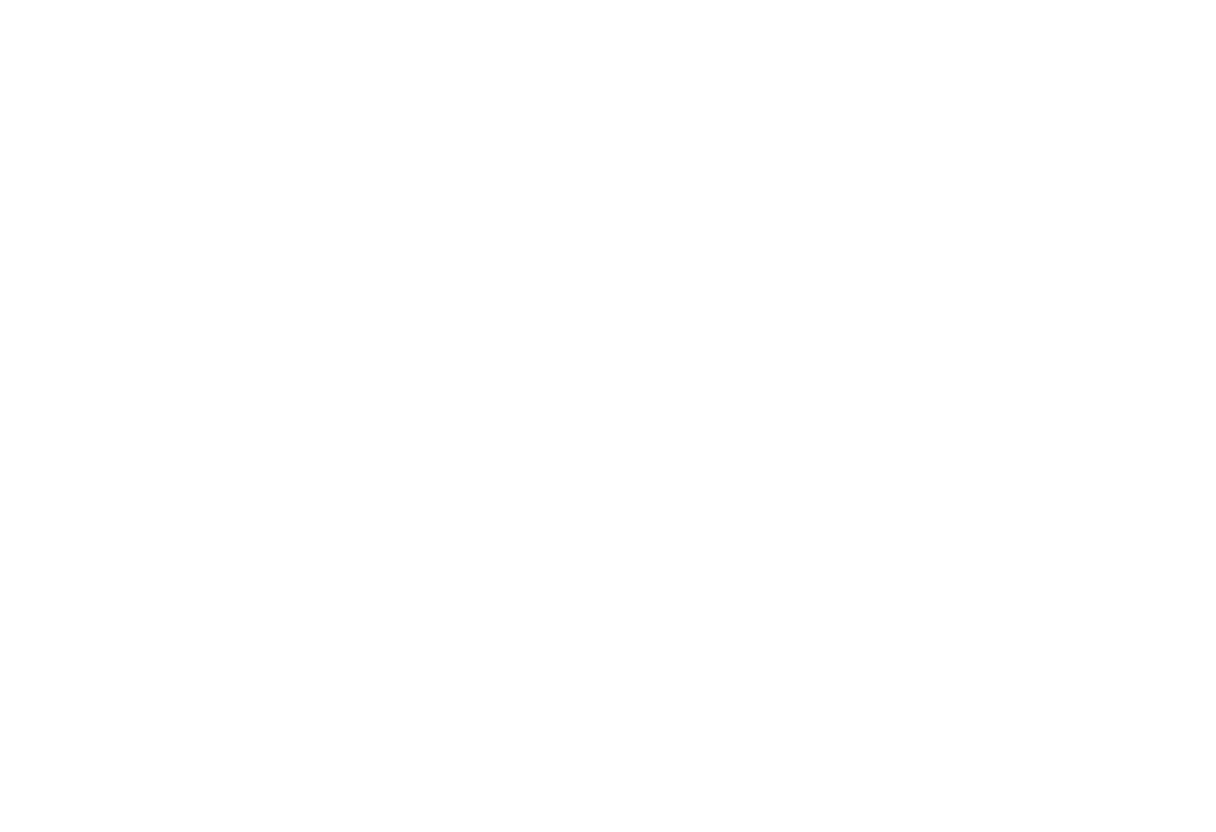
Финансовый крах редко случается мгновенно — ему предшествует период, когда человек продолжает безрассудно тратить деньги, несмотря на ухудшающееся материальное положение. Точно так же, многие пропускают очевидные признаки недобросовестности деловых партнеров, закрывая глаза на подозрительные действия и обман.
В личной сфере люди упорно поддерживают иллюзию благополучия, игнорируя тревожные изменения в поведении супругов или детей. Симптомы заболеваний остаются без внимания ради сохранения привычного ритма жизни. А нарушители закона часто не задумываются о юридических, моральных и криминальных последствиях своих действий.
Лишь после непоправимых событий — будь то диагноз, суицид близкого человека, развод,
В личной сфере люди упорно поддерживают иллюзию благополучия, игнорируя тревожные изменения в поведении супругов или детей. Симптомы заболеваний остаются без внимания ради сохранения привычного ритма жизни. А нарушители закона часто не задумываются о юридических, моральных и криминальных последствиях своих действий.
Лишь после непоправимых событий — будь то диагноз, суицид близкого человека, развод,
банкротство или судебный приговор — приходит понимание того, что все признаки грядущей катастрофы были на виду.
Когда психика достигает более высокого уровня развития, человек уже не игнорирует действительность, но может подавлять или искажать свои эмоциональные реакции на происходящее. Часто наблюдается феномен «маскированной депрессии» — люди стремятся избежать депрессивных состояний через чрезмерную стимуляцию, надеясь возродить чувства эйфории, азарта и безграничного оптимизма. Подавление субъективных откликов может затрагивать широкий спектр эмоций: от раздражения и усталости до внутренней пустоты, тоски и разочарования. Вместо признания своих истинных чувств, человек отрицает их, пытаясь искусственно создать ощущение радости и веры.
Когда психика достигает более высокого уровня развития, человек уже не игнорирует действительность, но может подавлять или искажать свои эмоциональные реакции на происходящее. Часто наблюдается феномен «маскированной депрессии» — люди стремятся избежать депрессивных состояний через чрезмерную стимуляцию, надеясь возродить чувства эйфории, азарта и безграничного оптимизма. Подавление субъективных откликов может затрагивать широкий спектр эмоций: от раздражения и усталости до внутренней пустоты, тоски и разочарования. Вместо признания своих истинных чувств, человек отрицает их, пытаясь искусственно создать ощущение радости и веры.
Индивидуальные предпочтения определяют источники грандиозности и удовольствия: кто-то находит их в безудержных вечеринках, другие — в экстремальном спорте, сексуальных связях или даже экзальтированном самопожертвовании.
Игнорирование фактической реальности в контексте маниакальных защитных механизмов возникает из стремления сохранить текущее положение. Человек избегает столкновения с переменами, воспринимая их как потенциальную угрозу своим привилегиям и достижениям.
Такой человек упорно оберегает своё внутреннее мировосприятие, в котором он предстаёт исключительной, незаурядной и одарённой личностью с особым статусом. С этой иллюзией связаны ощущения безупречности, неуязвимости, особой судьбы и превосходства над окружающими. Противостоять реальности, в которой человек обычен, ограничен и несовершенен, заставляет страх утратить эйфорические переживания величия, триумфа и безграничной самоуверенности.
Такой человек упорно оберегает своё внутреннее мировосприятие, в котором он предстаёт исключительной, незаурядной и одарённой личностью с особым статусом. С этой иллюзией связаны ощущения безупречности, неуязвимости, особой судьбы и превосходства над окружающими. Противостоять реальности, в которой человек обычен, ограничен и несовершенен, заставляет страх утратить эйфорические переживания величия, триумфа и безграничной самоуверенности.
Этот страх коренится в нежелании столкнуться с разочарованием в себе, признанием своей
посредственности, чувством стыда за промахи и ощущением недоверия как к миру, так и к собственной личности.
Избегание проблем через маниакальные защитные механизмы действует подобно анальгетику — временно маскирует боль, не устраняя её источник. Когда эффект привычных стимуляторов ослабевает, а способность справляться с отрицательными эмоциями не развивается, последствия нерешенных задач постепенно накапливаются. Неизбежный впоследствии кризис напоминает абстинентный синдром — совокупность реакций организма на прекращение поступления вещества, вызвавшего зависимость.
посредственности, чувством стыда за промахи и ощущением недоверия как к миру, так и к собственной личности.
Избегание проблем через маниакальные защитные механизмы действует подобно анальгетику — временно маскирует боль, не устраняя её источник. Когда эффект привычных стимуляторов ослабевает, а способность справляться с отрицательными эмоциями не развивается, последствия нерешенных задач постепенно накапливаются. Неизбежный впоследствии кризис напоминает абстинентный синдром — совокупность реакций организма на прекращение поступления вещества, вызвавшего зависимость.
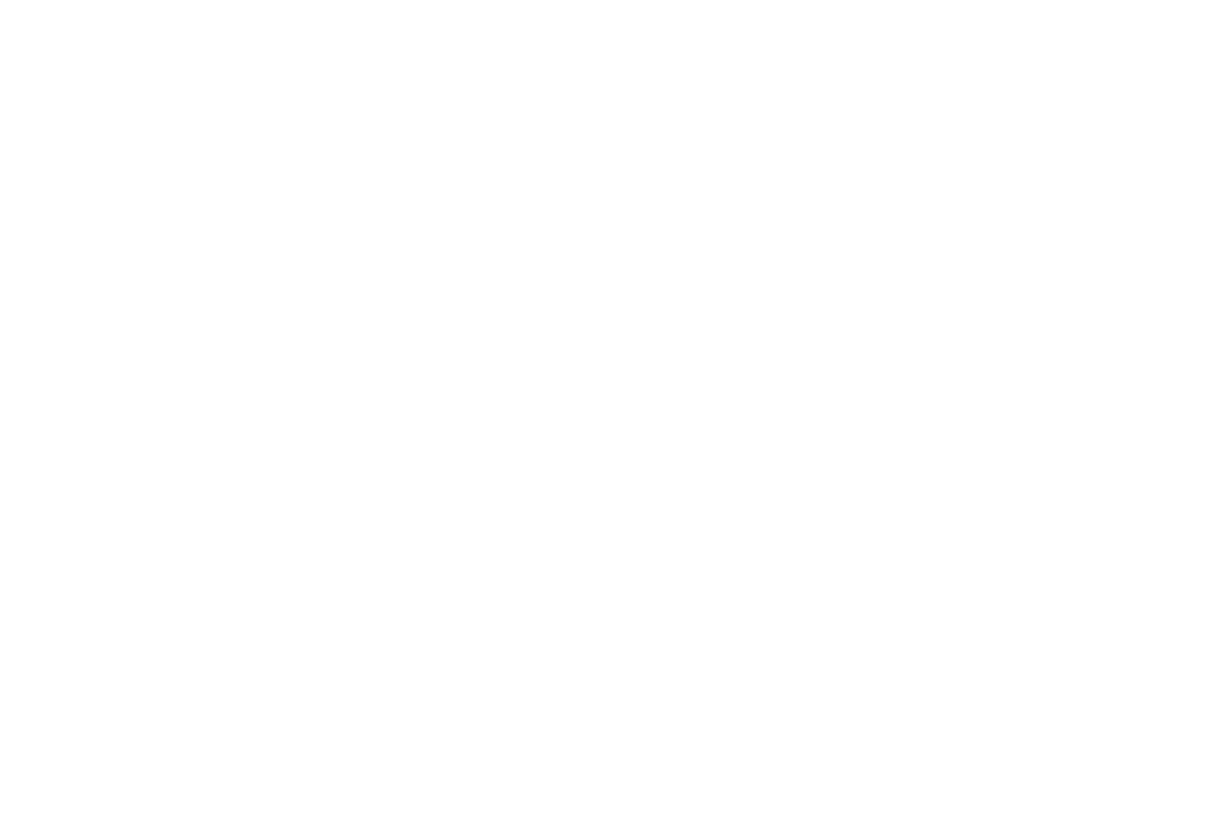
Когда наступает отмена, человек погружается в состояние безысходного постоянства, где жизнь кажется настолько безрадостной, что возникают мысли о её бессмысленности.
Первоначально острый кризис характеризуется ощущением полной потери контроля, глубоким разочарованием и чувством беспросветности. Всё, что раньше подавлялось или игнорировалось, внезапно обрушивается, подобно разрушительной лавине, разрушая привычные психологические защиты. Ситуация стремительно ухудшается, вызывая каскад дополнительных проблем и противоречий, а негативные симптомы только усиливаются, погружая человека в переживание абсолютной беспомощности и уязвимости.
На различных стадиях функционирования маниакальных защитных механизмов индивидуум может искать психологическую поддержку. Редко, когда люди, находящиеся в зените действия подобных защит, стремятся получить помощь
На различных стадиях функционирования маниакальных защитных механизмов индивидуум может искать психологическую поддержку. Редко, когда люди, находящиеся в зените действия подобных защит, стремятся получить помощь
специалиста. Это объясняется их глубокой уверенностью в собственном совершенстве,
отсутствием видения проблемных аспектов существования и непоколебимой верой в свои исключительные способности решать все трудности без посторонней поддержки.
Когда защитные механизмы начинают давать сбой и реальность проникает сквозь них подобно воде через дырявое сито, человек, ощущая приближение кризиса, может обратиться к психологу. Однако в таких случаях запрос обычно направлен не на принятие неизбежных перемен, а на возвращение к прежнему, комфортному состоянию. Пациент сопротивляется признанию необходимости изменений и упорно желает сохранить привычный и приятный для него образ жизни.
отсутствием видения проблемных аспектов существования и непоколебимой верой в свои исключительные способности решать все трудности без посторонней поддержки.
Когда защитные механизмы начинают давать сбой и реальность проникает сквозь них подобно воде через дырявое сито, человек, ощущая приближение кризиса, может обратиться к психологу. Однако в таких случаях запрос обычно направлен не на принятие неизбежных перемен, а на возвращение к прежнему, комфортному состоянию. Пациент сопротивляется признанию необходимости изменений и упорно желает сохранить привычный и приятный для него образ жизни.
Психологическая практика требует принятия решения между двумя подходами.
С одной стороны, специалист может работать на усиление защитных механизмов клиента, возвращая комфортное состояние (кстати, за что клиент охотно вознаграждает). Или пойти альтернативным путём — методичное ослабление маниакальных защит, помогая пациенту встретиться с действительностью и научиться с ней справляться.
Избрав путь деконструкции защит, терапевт запускает процесс, похожий на синдром отмены. Пациент неизбежно свяжет возникающий дискомфорт с терапевтическим вмешательством, что отчасти соответствует истине.
Избрав путь деконструкции защит, терапевт запускает процесс, похожий на синдром отмены. Пациент неизбежно свяжет возникающий дискомфорт с терапевтическим вмешательством, что отчасти соответствует истине.
Негативные проявления становятся прямым следствием выбранной стратегии работы.
В ряде случаев, пациенты, испытывающие синдром отмены, ошибочно винят в этом своего терапевта. Они разрывают текущие терапевтические отношения и начинают поиск нового специалиста, что только усиливает их страдания. После нескольких безуспешных смен терапевтов многие обращаются к психиатрам за медикаментозным лечением. Интересно, что для некоторых переход к фармакотерапии становится относительно благоприятным решением их проблемы.
В ряде случаев, пациенты, испытывающие синдром отмены, ошибочно винят в этом своего терапевта. Они разрывают текущие терапевтические отношения и начинают поиск нового специалиста, что только усиливает их страдания. После нескольких безуспешных смен терапевтов многие обращаются к психиатрам за медикаментозным лечением. Интересно, что для некоторых переход к фармакотерапии становится относительно благоприятным решением их проблемы.
В ходе лечения пациенты иногда испытывают ухудшение состояния, что нередко связано с определённым терапевтическим эффектом, а не с ошибками специалиста.
Многие люди, начинавшие терапию с мыслью о незначительных жизненных трудностях, через несколько месяцев обнаруживают у себя целый спектр физических и психологических проблем.
Прохождение этой сложной фазы без разрыва терапевтических отношений напрямую зависит от силы альянса между пациентом и терапевтом. Ключевыми факторами становятся: уровень доверия к специалисту, признание его профессионального авторитета, отзывы рекомендовавших его людей, финансовые условия, а также личная симпатия к терапевту как к человеку.
Прохождение этой сложной фазы без разрыва терапевтических отношений напрямую зависит от силы альянса между пациентом и терапевтом. Ключевыми факторами становятся: уровень доверия к специалисту, признание его профессионального авторитета, отзывы рекомендовавших его людей, финансовые условия, а также личная симпатия к терапевту как к человеку.
В случаях, когда человек теряет способность радоваться и вдохновляться, его охватывает безразличие и апатия, что часто усложняет выход из кризиса. Терапевтический подход в такой ситуации напоминает работу с глубоким горем и тяжелыми потерями. Бывает, что пациент сознательно избегает новых возможностей и развития просто из-за их непривычности, цепляясь за идеализированное прошлое. Сильнейшее внутреннее сопротивление вызывает осознание невозвратности прежних времен, по которым пациент продолжает долго тосковать.
ДРУГИЕ СТАТЬИ
(03)
МОЙ ПУТЬ
